
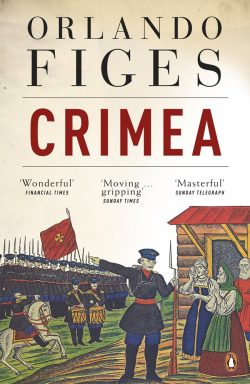
А.Криволапов
Крымская война: крестовый поход неистового Орландо
Сокращённый вариант рецензии на книгу: O. Figes. Crimea. The last crusade. L., 2011. Полностью опубликована в научном историческом альманахе «Русский Сборник»
«Увлекательно», «замечательно», «великолепно» (!!!) – такими комментариями к первому изданию монографии Орландо Файджеса «Крым. Последний крестовый поход» пестрит обложка второго издания этой весьма примечательной книги. Не ограничиваясь краткими репликами, там же на обложке издатели поместили более пространные и столь же восторженные цитаты из рецензий на первое издание «Крестового похода». Макс Хастингс из газеты «Sunday Times» сообщает: «Файджес рисует яркую картину кровавого и бессмысленного конфликта (…) он знает о России больше любого другого историка». Ему вторит Норманн Стоун, в прошлом крупный исследователь Первой Мировой войны: «Замечательная во всех отношениях тема, которая в лице О. Файджеса обрела историка, достойного её широты и глубины». Тристрам Хант в «Ежегодном книжном обозрении» именует Файджеса не иначе как «блистательным историком». Сам же «блистательный историк», как следует из введения, считает свой труд первой комплексной работой в европейской историографии, синтезировавшей источники всех враждовавших держав.
В сущности, намерение автора рассказать именно о «Крестовом походе» следует уже из названия книги. Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг. в представлении Франции и Великобритании являлась «Крестовым походом в защиту свободы и европейской цивилизации от варварской и деспотичной угрозы со стороны России, чей агрессивный экспансионизм создавал угрозу не только для Запада, но и для всего христианского мира». Файджес указывает на то, что за решением каждого правительства о вступлении в войну могли стоять различные мотивы, однако практически исключительная вина за развязывание войны почему-то возлагается автором лично на императора Николая I.
Двухвековое противостояние России и Турции, а также сложный комплекс международных проблем на Балканах и в Проливах, связанный с неуклонным ослаблением и приближающимся распадом Османской империи, и традиционно именуемый в историографии «Восточным вопросом» − всё это британский историк смело редуцирует до таких сравнительно простых понятий как «крестовый поход» и «религиозная война».
Файджес не просто постулирует в качестве гипотезы, а сразу же безапелляционно утверждает, что император Николай I стремился расширить пределы Российской империи до Царьграда и Иерусалима. Не приводя в своей книге никакого анализа историографии, не утруждая себя даже реферативным её обзором, профессор Файджес смело заявляет, что «историки традиционно недооценивали религиозный подтекст Восточной войны».
Царская Россия, по мнению профессора, являлась цивилизацией, «построенной на мифе о православной преемственности с Византийской империей». Экспансионистской России, преследовавшей мусульман на недавно завоеванных территориях, в определенной степени противопоставляются относительно веротерпимые османы, признававшие за «райей» право на некоторую автономию. С точки зрения Файджеса, особенно ярко религиозный характер русской экспансии проявился именно в Крыму и на Кавказе. Христианизация Кавказа определяется автором как главная цель русской политики в регионе. Там же сказано, что в первой половине XIX в. проводил эту «христианизацию» лично русский наместник в Закавказье и главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом генерал-адъютант Алексей Петрович Ермолов, зачем-то именуемый в тексте Файджеса – «Александром».
Элементарное сравнение правового положения христиан в Османской империи и мусульман в Российской империи не позволяет согласиться с версией, предложенной Файджесом. Для начала, мусульмане никогда не составляли половины населения России, тогда как в Турции к середине XIX в. из 35 млн. подданных султана 13,5 млн. являлись православными христианами. Отношение османов к христианам было напрямую связано с тем, какое место занимала в османском обществе религия. Турецкая держава оставляла вопросы образования, семейной, культурной и общественной жизни на усмотрение конфессиональных сообществ, требуя взамен, чтобы те соблюдали закон, платили налоги и были лояльны по отношению к султану. Данный компромисс лежал в основе так называемой системы «милетов» − охраняемых законом немусульманских общин. Османская империя, несомненно, была мусульманской страной, где мусульмане являлись главным и правящим сообществом. Но в XIX в. рост благосостояния и уверенности в своём положении османских христиан и усиление мощи их зарубежных союзников подорвали основные посылки, на которых строилась система «милетов», что привело к серии кровопролитных межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
До политической реформы 1856 г. христиане не имели права служить в турецкой армии даже рядовыми, хотя в принципе никогда особенно и не стремились на военную службу. Исключение составляли лишь формирования из казаков-некрасовцев, а также созданный в ходе Крымской войны Польский легион. В России же вполне допускалась служба мусульман в императорской армии не только на рядовых и унтер-офицерских, но даже на офицерских должностях. Лейб-гвардии Кавказско-горский и лейб-гвардии Крымско-Татарский эскадроны с конца 1820-х годов входили в состав Собственного Его Императорского Величества конвоя. При этом наряду с мусульманами-суннитами в императорском конвое служили также мусульмане-шииты.
Даже пресловутая Кавказская война 1816-1864 гг. не сопровождалась противостоянием России единому фронту всего местного мусульманского населения. Шииты Закавказья, к примеру, не поддерживали антирусские выступления суннитов Чечни и Дагестана. Более того, на стороне России постоянно сражались различные подразделения, сформированные из мусульман-суннитов Северного Кавказа, среди которых особенно отличился конно-иррегулярный полк.
Глубину интеграции мусульманских общин России в единое общеимперское целое достаточно ясно характеризует уже один тот факт, что в 1853 г., когда стала очевидна близость очередной русско-турецкой войны, османское правительство и военное командование, не имело каких-либо четких планов использования недовольства крымских татар и ногайцев своим положением внутри Российской империи.
Кем же был император Николай Павлович, «более чем кто-либо ответственный за развязывание Восточной войны»? Орландо Файджес уверенно отвечает: «(…) с возрастом он становился все более раздражительным и нетерпеливым, проявив склонность к безрассудному поведению и вспышкам гнева, поскольку страдал наследственным психическим заболеванием», также как и его старшие братья. В подтверждение своих слов профессор ссылается на хорошо известные отечественные работы А.М. Зайончковского и Л.В. Выскочкова, а также исторический сборник под редакцией М.О. Гершензона. Легко, однако, убедиться в том, что указанная литература вообще не содержит сведений о психическом расстройстве императора Николая. Некорректное оформление справочного аппарата и пустые ссылки у Файджеса будут встречаться неоднократно. Типичным приемом «блистательного историка» является доказательство скандального тезиса с помощью ссылки на страницу книги действительно серьезного ученого, в которой, на самом деле, доказательство данного тезиса не содержится.
Рисуя краткую историю русско-турецких отношений в XIX столетии, Файджес не обошел своим вниманием события войны 1828-1829 гг. Профессор объясняет причины тяжелых санитарных потерь русской армии на Дунайском театре одним лишь безразличным отношением офицеров и генералов к здоровью и жизни крепостных солдат. При этом в списке литературы у Файджеса значится блестящая работа американского исследователя Ф. Кэгана, которая посвящена малоизученной проблеме реформирования центральной военной администрации России в 1820-1830-е гг. Кэган на богатом фактическом материале, используя неопубликованные источники Российского Государственного Военно-Исторического Архива, наглядно показал, как отсутствие единства военного планирования, недостаток взаимопонимания между командованием Дунайской армии, военным министерством и Главным штабом, а также неудовлетворительная работа военной администрации всех уровней привели к дезорганизации тыла, срыву нормального снабжения войск продовольствием и значительному увеличению санитарных потерь. Данные обстоятельства предопределили малоудачный исход кампании 1828 года, а работа над ошибками повлекла за собой серьезные военные реформы и возникновение той системы высшего военного управления, с которой Россия вступила в Крымскую войну. Вопрос, зачем Файджесу потребовалось писать откровенную ерунду, и почему для преодоления своего незнания он не воспользовался работой из собственной же библиографии, остается для меня открытым.
События польского мятежа 17 ноября 1830 г. и последовавшей затем русско-польской войны «блистательный историк» изложил столь же обстоятельно. После перехода польской армии на сторону мятежников и постановления польского сейма о лишении Николая I и его наследников права на польский престол русские войска в январе 1831 г. перешли административную границу Царства Польского. По версии Файджеса, русским главнокомандующим с самого начала войны уже являлся генерал-фельдмаршал граф И.Ф. Паскевич-Эриванский. О том, что Паскевич принял Действующую армию лишь после неожиданной смерти фельдмаршала И.И. Дибича-Забалканского в мае 1831 г., автор, очевидно, запамятовал либо просто не знал.
Польская кампания 1831 г. именуется Файджесом «карательной», профессор с негодованием отмечает страшную жесткость русских войск, не указывая, правда, в чем же конкретно эта жестокость выражалась. Оно и понятно, поскольку под видом «карательной кампании» 1831 года преподносится вполне обычная полевая война в духе наполеоновской эпохи, в которой, в отличие от восстания 1863-1864 гг., сражались две регулярные армии при сохранении достаточно четкого деления на комбатантов и некомбатантов.
Венгерский поход 1849 г., как утверждает Файджес, также сопровождался «жестокими репрессиями против населения» со стороны русских войск, хотя никаких конкретных фактов и доказательств этому опять же не приводится.
Когда Файджес переходит к рассуждениям о русско-британских противоречиях в 1830-1840-е гг., то по очевидной причине сразу же начинает демонстрировать более уверенное владение материалом. Прослеживая генезис русофобии в Великобритании, Файджес заявляет, что в годы, предшествовавшие Восточной войне 1853-1856 гг. Россия никогда не вынашивала планов вторжения в Индию.
По мнению Файджеса, и здесь я полностью с ним согласен, император Николай I в силу ряда причин так до конца и не уяснил ту роль, которую в британской внешней политике играли Парламент, оппозиционные партии, пресса и общественное мнение. Состоявшийся в 1844 г. визит императора в Великобританию нисколько не развеял накапливавшееся десятилетиями недоверие к России, несмотря на то, что угроза британским интересам со стороны Петербурга в действительности была минимальной. Файджес делает вывод, что во второй четверти XIX в. русофобия даже в большей степени, чем франкофобия, сделалась ключевым элементом взгляда Великобритании на окружающий мир. Более того, русофобия британского общественного мнения питалась не столько фантомными страхами за Индию или Турцию, сколько симпатиями в отношении угнетенных поляков.
Завершив свой захватывающий рассказ о «религиозной природе русской имперской экспансии», профессор Файджес переходит непосредственно к освещению событий международного кризиса начала 1850-х гг. С его точки зрения, к концу 1852 года Николай I принял окончательное решение о территориальном расчленении Османской империи. Данный тезис преподносится в обычной для Файджеса безапелляционной манере, хотя вопрос об истинных целях внешней политики России в отношении Османской империи вплоть до настоящего времени является предметом широкой научной дискуссии как в отечественной, так и в англо-американской историографии.
Файджес ссылается на мемуары саксонского посланника при русском дворе графа К. Фитцума фон Экштедта, суждения которого о внешнеполитических планах Николая I в действительности были достаточно сдержанными. Но Фитцум фон Экштедт писал: «(…) считаю возможным сомневаться в том, чтобы он (Николай I – А.К.) действительно намеревался покорить Константинополь. Намерение его состояло в том, чтобы опутать Турцию всякими договорами и трактатами и подчинить совершенно своему авторитету».
Американский исследователь Д. Дейли анализировал взаимоотношения России и Турции после подписания Адрианопольского трактата в 1829 г. в контексте общей истории Восточного вопроса. Он пришел к выводу, что сущность внешней политики Николая I и канцлера К.В. Нессельроде была не наступательной, а оборонительной, так как оба прекрасно сознавали: «(…) любая попытка овладеть Константинополем вовлечет Россию в большую войну с Европой, коалиционную войну, которую Россия не могла надеяться выиграть».
Такие известные исследователи, как Э. Ламберт и Н. Рич, работы которых указаны Файджесом в списке литературы, придерживались версии об отсутствии у Николая I желания разрушить Османскую империю. По мнению Ламберта, сущность весьма осторожной по своей природе русской политики в Причерноморье не была понята Великобританией правильно по причине «ошибочности тех методов, которыми она осуществлялась». Выдающийся английский историк А. Тэйлор, книга которого опять же указана Файджесом в библиографии, утверждал, по сути, то же самое: «(…) Сколько бы русские не говорили о грядущей гибели и разделе Турецкой империи, их фактическая политика за предшествовавшие двадцать лет заключалась в поддержке Оттоманской империи как буферного государства, обеспечивавшего безопасность Черного моря; неотъемлемым условием такой политики было то, что Турция должна была бояться России больше, чем какой-либо другой державы. Теперь турки показали, что они боятся Франции больше, чем России. (…) Через год, когда вспыхнула война, английское правительство опубликовало документы о переговорах Сеймура вместе с составленным в 1844 г. планом раздела Турции. Тогда именно и возник миф, будто Россия стремится к расчленению Турецкой империи. Это было неверно. Какие бы отдаленные планы не лелеял царь, практической задачей русской политики в начале 1853 г. было восстановление преобладающего влияния России в Константинополе, утраченного в результате успеха Франции в вопросе о «Святых местах». Итак, профессор Файджес выдает спорное и дискуссионное за общепризнанное, а литературу из собственной же библиографии в значительной степени − игнорирует, изобретая вместо этого различные фантомы типа религиозного характера русской экспансии или исключительного влияния религиозного императива на внешнюю политику России. Незачем набрасывать идеологическую тень на преимущественно прагматический плетень конкуренции великих держав в Восточном вопросе. «Вопрос о Святых местах и все, что к нему относится, − признавался министр иностранных дел Франции Э. Друэн-де-Люис, − не имеет никакого действительного значения для Франции. Весь этот Восточный вопрос, возбуждающий столько шума, послужил императорскому (французскому − А.К.) правительству лишь средством расстроить континентальный союз, который в течение почти полувека парализовал Францию. (…)».
Далее, летом 1853 г. после разрыва дипломатических отношений с Турцией по приказу императора Николая I в залог исполнения требований, предъявленных Турции в ходе миссии А.С. Меншикова, «две армии» переходят в тексте Файджеса Прут и оккупируют Придунайские княжества. Естественно, никаких «двух армий» в Княжествах не было и в помине. Силы, находившиеся под командованием генерал-адъютанта князя М.Д. Горчакова, состояли преимущественно из войск III-го, IV-го и частично V-го пехотных корпусов. Также при описании начавшейся кампании Файджес постоянно использует заимствованное из военного лексикона XX века понятие «фронт» вместо более уместного применительно к оперативному искусству XIX века понятия «театр военных действий».
С началом Дунайской кампании русское командование зачем-то сосредотачивает под Браиловым «20.000 гренадеров», хотя в 1854 г., как следует из общеизвестных боевых расписаний, ближайшие к Дунайскому театру гренадерские дивизии находились под Варшавой.
Профессор утверждает, что русская оккупация Княжеств в основе своей имела репрессивный характер. Он пишет о жестоких реквизициях транспорта и продовольствия, фактически не ссылаясь при этом ни на какие источники.
Русские войска на Дунае, утверждает Файджес, несли огромные потери от болезней. Им приводятся рассказы французского офицера и немецкого доктора об отвратительном качестве хлеба, выдаваемого солдатам. А.М. Зайончковский, который подробно разобрал вопрос провиантского обеспечения русских войск на Дунайском театре, отметил в целом вполне удовлетворительную работу русского интендантства. Несмотря на дефицит подвод и сознательный отказ русского командования от проведения реквизиций, задача снабжения Дунайской армии продовольствием была успешно решена.
Тем не менее, русская армия объявляется Файджесом самой отсталой армией Европы. В начавшейся войне на Дунайском театре, как и в 1828-1829 гг., по причине безразличного отношения начальников к жизни вверенных им солдат, войска будто бы начали нести тяжелые санитарные потери. Стрелковое вооружение русской армии якобы также было отсталым, из-за этого в войсках насаждался культ штыка, а нарезные ружья были будто бы заказаны лишь после начала боевых действий. О том, что уже к концу 1840-х годов в каждом пехотном корпусе русской армии имелся штатный стрелковый батальон, а в полках − отдельные команды штуцерных, вооруженные 17,78 мм нарезными Литтихскими штуцерами образца 1843 г., либо штуцерами системы Гартунга и Эрнрота, соответственно, образцов 1848 и 1851 гг. − профессор, по всей видимости, не знает.
Файджес ещё раз напоминает о том, какие огромные санитарные потери неизменно несли русские войска на протяжении всех войн в царствование императора Николая I, особенно в ходе Русско-Турецкой войны 1828-1829 гг., Русско-Польской войны 1830-1831 гг. и Венгерского похода 1849 г. Историк, как нетрудно догадаться, сочувственно объясняет это сервилизмом одних и равнодушием других.
О причинах, повлекших тяжелые санитарные потери русских войск на Дунае в 1828-1829 гг., достаточно подробно написал Ф. Кэган. Польская же кампания разворачивалась в 1831 г. на фоне общеевропейской холерной эпидемии и потому сопровождалась исключительно тяжелыми небоевыми потерями. В 1831 г. погибло 113. 655 чел. или 1/7 всей армии, тогда как с 1826 по 1851 г. во всех регулярных войсках средние боевые потери и смертность от болезней составляли в среднем 43.723 чел. в год.
Файджес с ссылкой на Дж. Ш. Кёртисса − автора монографии, посвященной армии Николая I, указывает, что даже в мирное время в русской армии ежегодно продолжало заболевать примерно 655 чел. из 1000. Файджес полагает, что эта цифра должна свидетельствовать об ужасном санитарном состоянии русской армии, хотя в западноевропейских армиях того времени заболеваемость была столь же высокой. По данным Л. Ильяшевича, например, в бельгийской армии начала 1860-х гг. ежегодно заболевало 654 чел. на 1000, поэтому Ильяшевич в силу различных причин официальные данные русских военно-медицинских отчетов считал даже несколько заниженными.
В результате военных преобразований 1830-1840-х гг. смертность в войсках сократилась, хотя и продолжала оставаться сравнительно высокой. В год от болезней погибало примерно по 37 чел. из 1000 человек списочного состава. Численность умерших в русской армии в мирное время в почти два раза превышала число умерших в европейских армиях. Например, в австрийской армии по данным на 1857 г. умирало в среднем 19,2 на 1000 чел. Однако и среди гражданского населения России смертность от болезней была в среднем на четверть выше, чем в Европе.
Возросшие возможности русского интендантства были продемонстрированы в ходе Венгерского похода 1849 года. Несмотря на эпидемию холеры и то обстоятельство, что венгерская равнина была основательно опустошена австрийскими и венгерскими войсками ещё до вступления на неё русской армии, последняя потеряла 708 чел. убитыми и 2447 ранеными. От болезней, главным образом холеры, умерло 10.885 чел. По сравнению с жертвами в ходе войн 1828-1831 гг. такие потери выглядели достаточно умеренными.
Переговоры в Вене летом и осенью 1853 г. не смогли остановить эскалацию конфликта. Россию, как утверждает Файджес, упорно подозревали в желании завладеть Придунайскими княжествами на постоянной основе. Намерение австрийского правительства позволить Николаю I выйти из затруднительного положения, сохранив лицо, он оценивает, как практически невыполнимое.
В любом случае, после сражения в Синопской бухте вступление морских держав в войну на стороне Турции стало практически неизбежным. Объединенный англо-французский флот вошел в Черное море с тем, чтобы воспрепятствовать возможным действиям русского Черноморского флота. При этом запрет на плавание по Черному морю не касался Турции.
Комментируя знаменитый обмен письмами между Наполеоном III и Николаем I, Файджес пишет о том, что отрицательный ответ Николая на мирные предложения Наполеона стал роковой ошибкой русского императора. Очевидно, именно «страдавший психическими патологиями» Николай I является в представлении профессора главным виновником срыва мирного урегулирования. В действительности же письмо Наполеона III содержало, скорее, не мирные предложения, а ультиматум. В условиях военной демонстрации и фактического выступления англо-французского флота на стороне турок, русскому императору предлагалось очистить Придунайские княжества. От Николая I сложно было ожидать уступок в условиях грубого шантажа и недвусмысленных военных угроз.
Файджес невысоко оценивает качество стратегического мышления Николая I. По мнению профессора, русский император имел преувеличенное представление о военных возможностях России. Победа в Отечественной войне 1812 г. будто бы породила у него иллюзию того, что Россия может в одиночку противостоять Европе на поле боя. Вывод звучит странно, особенно в контексте монографии Ф. Кэгана, которую Файджес указал в списке литературы, но читал, по всей видимости, невнимательно. Кэган же на конкретном историческом материале и с использованием неопубликованных архивных источников убедительно показал, что за военными реформами 1830-1840-х гг. стояло, в первую очередь, четкое понимание Николаем I естественных пределов военных возможностей России и ограниченности её ресурсов. Преобразования 1830-1840-х гг. действительно превратили русскую армию в первую по своей мощи боевую силу на европейском континенте, которой в одиночку не могла бросить вызов ни одна из великих держав. Нет, однако, никаких оснований подозревать Николая I и его советников в том, что они не понимали истины, справедливость которой была доказана всем ходом европейской военной истории XVII-XX веков: даже сильнейшая армия Европы не имела никаких шансов победить коалицию в условиях дипломатической изоляции со стороны всех остальных великих держав.
Рассказ о Восточном кризисе начала 1850-х гг., о сложных перипетиях отношений России с Турцией и великими державами, о том, как не вызывавший поначалу тревоги конфликт стремительно перерос в Русско-Турецкую войну, а затем − в противостояние изолированной России с мощной западноевропейской коалицией, по вполне очевидной причине получился у Файджеса достаточно сумбурным. Изначально сформулированный автором тезис о легкомысленном решении полусумасшедшего Николая I развязать религиозную войну было просто невозможно встроить в существующую европейскую историографию по причине его явной бездоказательности.
Файджес полагает, что «Меншиков и другие старшие военачальники» до последнего стремились отговорить императора от оккупации Княжеств и развязывания войны. В данном утверждении спорно или ошибочно практически всё. Едва ли справедливо столь категорично ставить знак равенства между решением Николая I оккупировать Придунайские княжества и решением спровоцировать войну с Османской империей и морскими державами.
Англия и Франция, заключив между собой союз, выступили на стороне Турции и весной 1854 г. объявили России войну. Австрия и Пруссия – ближайшие союзники Петербурга в Европе – отказались дать гарантии нейтралитета, а в апреле 1854 г. заключили против России оборонительный союз, который в определенных условиях мог превратиться в наступательный. К этому времени Австрия начала перевод своей армии на военное положение, и приступала к развертыванию главных её сил на русских границах. В первую очередь, в тылу Дунайской армии, осаждавшей турок в Силистрии. Теперь Россия в одиночку сражалась против могущественной коалиции, не имея ни единого союзника в Европе.
Файджес полагает, что в кампанию 1854 г. среди русских войск на Придунайском театре резко возросла смертность от болезней. К апрелю 1854 г. из 210.000 чел., имевшихся в составе Дунайской армии, 90.000 чел. якобы были больны. Цифры, прямо скажем, фантастические и не имеющие подтверждения в источниках. По данным генерал-штаб-доктора Дунайской армии с ноября 1853 г. по март 1854 г. среднее соотношение заболевших к наличному составу войск в течение месяца было 1:27, среднее отношение умерших к числу заболевших за тот же период было равно 1:25. Во время осады Силистрии болезненность увеличилась в полтора раза по сравнению с предыдущим полугодием, однако, среднее отношение умерших к числу заболевших практически не изменилось и равнялось 1:23. Смертность повысилась лишь в осенние месяцы, что было связанно с усиленной транспортировкой больных. Отношение умерших к числу заболевших достигало тогда 1:11. В ходе эвакуации русских войск из Княжеств по разным подсчетам было вывезено от 12.000 до 27.018 чел. больных и раненых. К 1 ноября 1854 г. в постоянных и временных госпиталях бывшей Дунайской армии состояло 13.856 чел. и ещё 3870 чел. находилось на излечении в полковых лазаретах. За всю Дунайскую кампанию в госпиталях и лазаретах побывало 194.675 чел., из которых умерло 13.947.
Для сравнения можно привести безвозвратные потери армии союзников за время её стоянки в Варне и неудачной экспедиции в Добруджу. На 17 июля 1854 г. численность развернутых там войск достигла примерно 19.000 чел. у англичан и 41.000 чел. у французов. Общие безвозвратные потери по данным британской периодики и французской санитарно-медицинской службы составили от 15.000 до 17.000 чел. Очевидно, что удельный вес союзных потерь в общей численности их войск намного превосходил этот показатель у армии М.Д. Горчакова, находившейся в тех же самых неблагоприятных климатических условиях и к тому же имевшей боевые столкновения с неприятелем, чего у англичан и французов не было.
После снятия осады Силистрии и начала отступления из Княжеств русские войска, по мнению Файджеса, оказались деморализованы. Тысячи раненых и больных были якобы оставлены на милость турок. Фактически же фельдмаршал И.Ф. Паскевич, отдав приказ о снятии осады Силистрии и общем отступлении из Княжеств, немедленно распорядился вывезти в Россию всех находящихся в госпиталях. В Бухаресте было оставлено лишь 38 чел. из числа тяжелораненых, помещенных в больнице Филантропии.
Иногда Файджес окончательно уходит в жанр «pop-history» и тогда для создания соответствующего колорита многих героев своего повествования начинает именовать «казаками». Именно казаки неизменно выступают у Файджеса субъектом проводившегося русскими террора на территории оккупированных Княжеств. Герой обороны Одессы прапорщик А.П. Щеголев оказывается у Файджеса «казачьим офицером». В реальности Щеголев в 1852 г. из Дворянского полка был выпущен прапорщиком в полевую артиллерию, и командовал в Одессе батареей из четырех 24-фунтовых орудий с 28-ю чел. прислуги из состава батареи № 14 5-й артиллерийской дивизии, которая организационно входила в состав регулярной армии, а не казачьих войск.
Файджес также заявляет, что именно батарея Щеголева в ходе бомбардировки расстреляла севший на мель английский фрегат «Tiger». Здесь у профессора два события сливаются в одно: англо-французский флот бомбардировал Одессу 10/22 апреля 1854 г., а «Tiger» сел на мель и был захвачен спустя почти три недели − 30 апреля/12 мая. При этом его вынудила сдаться не батарея Щеголева, а два орудия из батареи поручика Абакумова, входившей в состав 16-й артиллерийской бригады.
Защитники Одессы, по словам Файджеса, с большим размахом отпраздновали свой успех. Профессор не ссылается на какие-либо источники, но заявляет, что немедленно после пленения экипажа фрегата в Одессе началась пьяная оргия, в ходе которой было убито несколько человек.
Вооружение русской пехоты на Крымском театре военных действий в целом, конечно, уступало вооружению союзников, но Файджес серьезно ошибается, говоря о вооружении её лишь «мушкетами» и практически полном отсутствии нарезного стрелкового оружия. Само понятие «мушкет» используется в данном случае некорректно. Классические кремневые ружья оставались в годы Крымской войны на вооружении лишь у резервных и запасных войск второй линии. Основная масса русской, как, кстати, и французской, пехоты вооружалась в начале 1850-х гг. гладкоствольными ударными, то есть капсюльными, ружьями. Ружье образца 1845 г. калибром 18,03 мм и его незначительная модификация образца 1852 г. позволяло вести прицельный огонь сферической пулей на дистанции примерно в 300 шагов. В 1855 г. в русской армии начали распространяться полукруглые пули, созданные по образцу трофейных французских пуль системы Нейсслера, которые увеличивали дальность прицельного огня гладкоствольных ружей до 600 шагов.
Также в русской армии постепенно увеличивалось и число пехотинцев, вооруженных нарезными штуцерами. Помимо отдельных стрелковых батальонов корпусного подчинения к 1854 г. каждый пехотный батальон насчитывал 26 солдат со штуцерами. К осени 1855 г. 26 солдат со штуцерами приходилось уже на каждую роту. Основным вооружением русских стрелков был 17,78-мм нарезной так называемый Литтихский штуцер образца 1843 г., заряжавшийся пулей системы Куликовского. Реже использовались штуцера системы Гартунга и Эрнрота. Нарезное оружие русской армии имело эффективную дальность в 1200 шагов и по тактико-техническим характеристикам примерно соответствовало французскому штуцеру системы Тувенена. Однако новейшим винтовкам Минье и Энфилда оно уступало, − в первую очередь, по удобству заряжения.
8 сентября 1854 г. произошла битва на Альме, в которой русская армия численностью примерно 35.000 чел. при 96 орудиях встретилась с армией союзников, насчитывавшей 33.000 чел. французов и турок, а также 27.000 чел. англичан при 134 полевых орудия.
Описывая ход сражения, Файджес полагает, что на высотах левого фланга 28-и русским орудиям противостояло 12 французских. Французская пехота была вооружена винтовками Минье, а русская – мушкетами. В реальности, как уже было сказано выше, ружей Минье у французской армии на Альме не было вовсе. Из 96 русских орудий на Альме 40 находилось на французском, а 56 на английском участке фронта. Сорока русским легким 6-фунтовым пушкам и четвертьпудовым единорогам французы противопоставили тридцать крупнокалиберных 12-фунтовых гаубиц, чем обеспечили себе значительный огневой перевес. Выполнявший обход русского левого фланга генерал П-Ф-Ж. Боске и главнокомандующий маршал Ж.Л. Сент-Арно приписывали артиллерии главную роль в успешном окончании сражения. П. Мерсер также признавал, что на полях сражений Крымской войны артиллерия по-прежнему наносила сражавшимся основные потери.
Командира 17-й пехотной дивизии В.Я. Кирьякова профессор Файджес презрительно именует «одним из самых некомпетентных генералов царской армии». На поле боя Кирьяков якобы был нетрезв и командовал Минским полком с бутылкой шампанского в руках, а затем спьяну приказал открыть огонь по Киевскому гусарскому полку. В подтверждение всего этого вздора прямых ссылок профессор, естественно, не приводит.
Файджес рассуждает об огромной эффективности, с которой ружья системы Минье выводили из строя расчеты русских орудий. Однако стоявшая в эполементе русская батарейная № 1 батарея, по которой в ходе сражения вели огонь не только неприятельские стрелки, но и артиллерия, из 397 чел. личного состава потеряла 7 чел. убитыми и 22 чел. ранеными. Профессор некритически подходит к устоявшимся историческим клише о будто бы решающем превосходстве нарезного стрелкового оружия над гладкоствольной артиллерией, хотя роль последней на полях сражений Крымской войны по-прежнему оставалась значительной. Также Файджес не говорит ни слова об огне французской артиллерии во фланг Казанскому и Владимирскому полкам, который во многом решил исход боя на британском участке фронта. Несмотря на столь неточный пересказ хода сражения, вывод профессора звучит решительно и безапелляционно: русские потерпели поражение, так как оказались сломлены морально. Само собой разумеется, что в изложении профессора Файджеса их отступление с поля боя было «беспорядочным».
Затронул профессор и проблему трагической участи раненых воинов русской армии. «Те, кто не мог идти, − пишет Файджес, − примерно 1600 раненых русских солдат, были оставлены на поле боя, где они лежали на протяжении нескольких дней до тех пор, пока британцы и французы, убрав своих раненых, не позаботились о них, похоронив умерших и переправив раненых в госпитали Скутари в окрестностях Константинополя». При этом профессор ссылается на сообщение известного русского врача Х.Я. Гюббенета. Здесь мы имеем дело с сознательным искажением смысла первоисточника, поскольку в оригинале у Гюббенета дословно написано совсем другое: «(…) Под Альмою на поле сражения осталось не убранных до третьего и четвертого дня русских и английских раненых до 1600 чел.». И далее: «(…) Одно только не подлежит сомнению, − сообщает доктор Гюббенет, − что по истечении нескольких дней найдены ещё на поле сражения и отправлены в Севастополь 240 раненых. Кроме того, на французском пароходе перевезено в Одессу 423 раненых при Альме». Таким образом, ни о каких 1600 брошенных на милость противника раненых русских солдатах в тексте доктора Гюббенета речь не идет.
Повествуя о битве при Балаклаве, Файджес указывает совершенно фантастические данные о численности задействованных в сражении русских войск – 60.000 чел. Историк М. Адкин в книге, специально посвященной данному сражению, обратившись к русским источникам, оценил численность сводного отряда генерала П.П. Липранди значительно скромнее. По его подсчетам русские штурмовали Шоссейные высоты силами примерно 14.000 чел. при 36 орудиях. В обзорной монографии К. Понтинга, которую Файджес указывает в своей библиографии, сообщается, что общая численность русской армии, сражавшейся в районе Балаклавы, составляла примерно 15.000 чел. пехоты, 4000 чел. кавалерии и 78 полевых орудий. Таким образом, для того, чтобы удовлетворительно прояснить данный вопрос Файджесу в теории даже не требовалось обращаться к работам на русском языке.
Файджес вполне традиционно описывает бой 93-го Шотландского полка генерала К. Кэмпбелла (знаменитой «тонкой красной линии») и контратаку британской Тяжелой бригады под командованием генерала Д. Скарлетта. Профессор считает, что превосходящие силы русской кавалерии были опрокинуты после ожесточенной рукопашной схватки.
В свою очередь М. Адкин вообще ставит под сомнение реальность боя «тонкой красной линии» как такового. Легендарная «thin red line» состояла из располагавшихся на Кадыкиойских высотах 550 солдат 93-го полка, примерно 1000 служивших в османской армии тунисских арабов, около 100 самовольно оставивших балаклавский госпиталь больных и раненых англичан, а также батареи из шести 9-фунтовых пушек. В направлении Кадыкиоя наступали четыре сотни уральских казаков, которые не наблюдали противника, залегшего на обратном скате высот. Казаки попытались захватить британские орудия, но как только солдаты Кэмбелла дали залп, они немедленно осознали свою ошибку, и беспрепятственно отошли в направлении с. Комары. Шотландцы потерь не имели, с русской стороны было ранено несколько всадников и лошадей.
В описании вооружения французских зуавов в Инкерманской битве у Файджеса снова фигурируют смертоносные ружья Минье, которых у них на самом деле не было. В неудачном исходе сражения помимо общей отсталости русской армии, по мнению профессора, был виноват командир русского VI-го пехотного корпуса князь П.Д. Горчаков, который не поддержал главную атаку. В данном случае едва ли справедливо высказывать Файджесу серьезные претензии. В своей, по сути, насквозь вторичной работе он лишь воспроизвел общие места русской историографии Инкерманского сражения. «Блистательный историк» не стал вникать в детали и не задался вопросом, как же именно генерал Горчаков со своими шестнадцатью батальонами должен было штурмовать 100-метровую Сапун-гору, которую защищало 10-12 французских батальонов и тяжелые артиллерийские батареи с орудиями калибром до 30-фунтов? На подобные упреки в свой адрес, Горчаков в личном письме автору официальной французской истории Крымской войны Л. Герену давал по-солдатски прямой ответ: «(…) В приписываемых же мне ошибках могу сознаться только тогда, когда мне будет доказано, что я должен и мог атаковать Балаклаву (…), атаковать Сапун-гору (…), когда мне скажут, какого рода маневр следовало мне сделать, чтобы скрыть от генерала Боске мою существенную слабость». На неприступность Сапун-горы со стороны с. Комары также указывал начальник штаба севастопольского гарнизона полковник князь В.И. Васильчиков.
Файджес полагает, что высокая огневая мощь вооруженной нарезным оружием англо-французской пехоты, продемонстрированная в битвах на Альме и при Инкермане, являлась главным козырем союзников в Крыму, поскольку русские инженерные войска и артиллерия, как минимум, не уступали противнику. Однако в условиях осадной войны под Севастополем данное преимущество было невозможно реализовать в полной мере.
Описывая новое нарезное оружие защитников города, Файджес без ссылок на источники упоминает какие-то совершенно фантастические ружья с коническими пулями «длинной 5 сантиметров». Из контекста ясно, что речь у профессора идет об обычных винтовках, а не о специальных крупнокалиберных «крепостных ружьях». Но с учетом весьма туманных представлений «блистательного историка» о стрелковом вооружении второй четверти XIX в., едва ли стоит этому удивляться.
Как бы то ни было, к весне 1855 г. начал отчетливо сказываться перевес средств осады над средствами обороны. В апреле 1855 г. в ходе второй бомбардировки Севастополя союзники выпустили по городу примерно 160.000 снарядов из 500 орудий, защитники ответили только 88.751 снарядом из 409 пушек и 57 мортир. В мае 1855 г. состоялся штурм передовых укреплений Севастополя, при этом Файджес достаточно подробно описывает взятие Камчатского люнета, но опускает бой за Волынский и Селенгинский редуты.
По мере наступления агонии осажденного города, считает профессор, в рядах севастопольского гарнизона наметился значительный рост числа дезертиров. Кроме этого, Файджес передает слухи о якобы имевших место расстрелах взбунтовавшихся солдат севастопольского гарнизона. «Не только гражданские покидали Севастополь, − пишет исследователь. − В течение летних месяцев солдаты дезертировали в возраставших количествах. Те, кто перебегал к союзникам, рассказывали, что дезертирство было массовым явлением, и это подтверждается фрагментарными данными и донесениями русской военной администрации. Донесение от августа 1855 г., например, указывало, что количество дезертирств «сильно возросло», начиная с июня, особенно среди тех резервных частей, которые были переброшены в Крым: сотни человек бежали из 15-й резервной пехотной дивизии, также поступало трое из четырех новобранцев, присланных из Варшавского военного округа. Из самого Севастополя ежедневно перебегало до 20 человек, в основном во время вылазок и бомбардировок, когда солдаты находились под менее пристальным присмотром своих командиров».
Процитированный фрагмент текста Файджеса примечателен в нескольких отношениях. Во-первых, в нём почему-то идет речь о «Варшавском военном округе», который был образован только в 1862 г., в результате реформ Д.А. Милютина. Во-вторых, данные о дезертирстве ¾ новобранцев, взятых в русскую армию из западных губерний, требуют документального подтверждения, а не указания на слухи. Поляки, дезертировавшие из русской армии, на допросе у англичан при желании могли рассказать и не такое. В-третьих, выглядят неправдоподобно, а потому опять же требуют документального подтверждения, сведения о значительном дезертирстве именно в 15-й резервной пехотной дивизии. Приложения к книге доктора Х.Я. Гюббенета, к примеру, содержат сведения о потерях Модлинского полка, входившего в 15-ю резервную дивизию. На момент прибытия в Севастополь в полку состояло 2355 чел., потери к концу осады составили 2205 чел., в качестве пополнения полк получил 82 чел., выздоровело и вернулось из госпиталя 379 чел. Иными словами, Модлинский полк, находясь в гарнизоне Севастополя, был перемолот практически в полном составе. Этот факт ставит под сомнение данные Файджеса относительно низкой моральной устойчивости подразделений 15-й резервной пехотной дивизии. В исторической науке существуют общепринятые правила работы с письменным источником, которые требуют точности цитаты и точного указания выходных данных архивного документа. Поскольку справочный аппарат в книге профессора далеко не всегда отвечает этим требованиям, подчас бывает затруднительно отделить текст первоисточника от интерпретаций и откровенных домыслов автора.
«Русские, − пишет Файджес, − несли гораздо более тяжелые потери, чем союзники. К концу июля в Севастополе было убито и ранено до 65.000 русских солдат, − более чем вдвое больше, нежели у союзников, не считая потерь от болезней». К концу осады союзники ежедневно выпускали по крепости до 75.000 снарядов, осажденные могли отвечать лишь одним выстрелом на четыре. Летом 1855 г. русские ежедневно теряли до 800 чел. Профессор ссылается на показания русского пленного и считает, что это было вдвое больше, чем главнокомандующий М.Д. Горчаков докладывал в столицу.
По мере приближения неизбежной развязки Горчакову не было никакого резона специально занижать потери вверенных ему войск. Более того, если окончательно становиться на скользкую почву конспирологических домыслов, то логичнее было бы предположить обратное: чтобы избежать ответственности за неудачный исход борьбы, фальсифицированные данные о потерях главнокомандующему следовало не занижать, а, напротив, − завышать. Но русский главнокомандующий, несмотря на все его недостатки как полководца, предпочитал говорить правду. В письмах, адресованных военному министру князю В.А. Долгорукову в августе 1855 г. Горчаков доносил, что с 5 по 11 августа гарнизон потерял 5743 чел., то есть около тысячи человек в сутки.
Уже в первую бомбардировку в октябре 1854 г., несмотря на то, что русская артиллерия на два неприятельских выстрела отвечала пятью своими, гарнизон потерял 1100 чел. против 344 у противника. В ходе последующих бомбардировок города эта невыгодная для защитников пропорция оставалась неизменной, в то время как в абсолютном исчислении потери постоянно увеличивались. Во время второй бомбардировки в апреле 1855 г. защитники потеряли 6130 чел., а союзники только 1850 чел. В ходе финальной шестой бомбардировки в августе 1855 г. гарнизон потерял 18.000 чел., тогда как союзники 3860 чел.
При этом в ходе первого и второго штурма, когда русская артиллерия и пехота имела возможность действовать непосредственно по атакующим колоннам, столь невыгодная для защитников диспропорция потерь уже не наблюдалась. Штурм передовых укреплений Севастополя, предпринятый союзниками 26 мая 1855 г. стоил французам 5554 чел., а британцам 693 чел. убитыми и ранеными, тогда как гарнизон лишился примерно 5000 чел. Четвертая бомбардировка Севастополя 5 июня 1855 г. с учетом потерь в ходе неудачного для союзников штурма на следующий день 6 июня стоила русским войскам 5446 чел убитыми и ранеными против примерно 6700 чел. у англичан и французов. Генеральный штурм 27 августа 1855 г. стоил союзникам 10.067 чел., тогда как защитники потеряли 12.913 чел. убитыми, ранеными и пропавшими без вести. По данным Н.Ф. Дубровина, из этого числа примерно 2000 чел. русские потеряли в день штурма от неприятельской бомбардировки ещё до начала атаки.
Русская армия могла перейти в наступление либо непосредственно из Севастополя против осадных линий союзников, либо против внешнего фронта их обороны, который проходил по Сапун-горе и прикрывался со стороны р. Черная передовыми укреплениями на Федюхиных высотах, Телеграфной горе и горе Гасфорта. В конечном итоге, Горчаков решил штурмовать Федюхины высоты, хотя многим была очевидна бессмысленность подобного шага.
Наступление Горчакова вылилось в лобовой штурм мощных полевых фортификаций, расположенных на Федюхиных высотах, и завершилось неудачей. После битвы, пишет Файджес без указания источника, русские даже не пытались подобрать своих раненых на поле боя. Однако доктор Гюббенет свидетельствовал, что для помощи раненым были приложены все возможные в той ситуации усилия. В донесении французского главнокомандующего маршала Ж.-Ж. Пелисье утверждалось, что русские отвели с поля боя около 6000 раненых, а французы подобрали только 1814 чел.
Вскоре после победы на Черной союзники предприняли второй штурм, в результате которого французы овладели Малаховым курганом, после чего русская армия по наведенному инженерами генерала А.Е. Бухмейера почти километровому понтонному мосту отошла на северную сторону Севастополя. Файджес указывает, что в городе было брошено около 3000 раненых, хотя ссылок на источники по традиции не приводит. При этом в своих воспоминаниях доктор Гюббенет точного числа оставленных раненных не указывал. К. Понтинг, к примеру, считал, что в городе было оставлено не более 500 чел., а не три тысячи, и что эвакуация гарнизона проходила на редкость организованно.
В декабре 1855 г. австрийское правительство предъявило России ультиматум, требуя вступить с союзниками в мирные переговоры на основе так называемых «четырех пунктов». В противном случае Австрия угрожала разорвать с Петербургом дипломатические отношения. Четыре пункта как основа для будущего мира были впервые сформулированы Англией, Францией, Австрией и Пруссией 8 августа 1854 г. Они предполагали замену русского покровительства над Дунайскими княжествами коллективным покровительством пяти держав, свободу судоходства по Дунаю, пересмотр Лондонской конвенции 1841 г. в пользу союзников и замену русского покровительства над православными подданными султана коллективной гарантией их прав, данной европейскими державами.
В вопросе принятия австрийского ультиматума император Александр II испытывал серьезные колебания, поэтому в декабре 1855 – январе 1856 гг. в Зимнем дворце состоялись два политических совещания. Министр государственных имуществ граф П.Д. Киселев, по словам Файджеса, поддержал сторонников мира, «(…) добавляя, что народ на Волыни и в Подолии на Украине, вероятно, также восстанет против русского владычества, как финны и поляки, если война продолжится и австрийские войска приблизятся к этим западным приграничным территориям».
В реальности же на втором совещании в Зимнем дворце, состоявшемся 3 января 1856 г., Киселев сказал следующее: «Области, присоединенные к империи около полувека назад, не успели ещё слиться с нею. Глухое недовольство распространяется на Волыни и в Подолии агентами польской эмиграции». А в дневнике самого графа Киселева его выступление на втором совещании вообще не нашло отражения. Таким образом, рассуждая о возможном «восстании», Файджес вновь сознательно искажает текст источника.
После окончания войны, пишет профессор, началось жестокое преследование крымских татар со стороны русских военных властей. Управлявший югом империи граф А.Г. Строганов, в отличие от более либерального М.С. Воронцова, будто бы «начал практиковать насильственную христианизацию Крыма». Файджес проводит прямые параллели со сталинской депортацией и утверждает, что Александр II и граф Строганов фактически поощряли выселение крымских татар. В 1856-1863 гг. 150.000 татар и, возможно, 50.000 ногайцев, то есть примерно 2/3 татарского населения Крыма и юга России переселились в Османскую империю. Профессор добавляет, что имеются основания полагать, будто в реальности эти цифры были значительно выше. В 1856-1867 гг. Крым, по его мнению, покинуло 104.211 мужчин и 88.149 женщин, опустело 784 деревни и 457 мечетей.
После рассказов Файджеса об ужасах религиозно детерминированной русской имперской экспансии так и подмывает задать вопрос: а сколько же татар вообще осталось в Крыму после всего случившегося? При такой арифметике возникает подозрение, что русские каратели перестарались, выселив больше мусульман, чем фактически проживало на территории Крыма к моменту окончания военных действий. Ведь не секрет, что по данным русской военной статистики, в 1848 г. на полуострове проживало всего лишь 280.000 чел. всех наций и вероисповеданий.
Итак, можно, наконец, подвести некоторые итоги.
«Крестовый поход» Орландо Файджеса производит тяжелое впечатление. Попытка отыскать в данной монографии зрелые умозаключения, обоснованные анализом источников и литературы, будет сопряжена с просеиванием такого количества «шлака», что невольно уподобится извлечению изюма из булочки. Громкая, обозначенная ещё во введении, заявка на синтез источников всех воевавших сторон и подготовку первой в европейской историографии «комплексной работы» на поверку оказывается пустой декларацией. В сущности ничего принципиально нового в книге Файджеса нет.
Возможно, профессиональная несостоятельность «блистательного историка» определила и то, что к исследованию Восточной войны Файджес подошел в соответствии с канонами жанра «pop-history», нацеленного на развлечение обывателя, мучительно скучающего в современном постиндустриальном обществе. Коль скоро такой текст обязан выглядеть ярко, хлестко и задорно, автор не остановился перед шаманством со справочным аппаратом и сознательным искажением текста источников при их цитировании. По-видимому, с той же целью профессору потребовалось сочинять бред о сумасшествии императора Николая I и пресловутых религиозных императивах его внешней политики, записывать в казаки офицеров русской армии, смаковать мнимые подробности травматической кастрации и сексуальных перверсий князя А.С. Меншикова, снисходительно рассуждать о сервилизме крепостных солдат и обличать репрессивную природу русской имперской экспансии.
В результате на свет появилось нечто до отвращения попсовое и в то же время, как ни парадоксально, до боли знакомое. Многие эмоциональные оценки, штампы, мифы и клише отечественной историографии Крымской войны, очевидно, очень «пригодились» Файджесу в его работе. Скрещивание постмодернистского эпатажа с идеологическим тезисом о «гнилости и бессилии крепостной России» дало здесь весьма причудливые плоды. Как известно, классическая монография академика Е.В. Тарле отводила русско-британскому конфликту ключевое место в Восточном кризисе начала 1850-х годов. На сегодняшний день это представляется одним из наиболее спорных моментов в концепции советского историка, но Файджес, как ни странно, уверенно движется по стопам сталинского академика. В «Крестовом походе» фактически не нашлось места для анализа французской и австрийской политики в Восточном вопросе. Такие важные для понимания генезиса войны сюжеты, как попытка Николая I положить конец опасному для интересов России расширению французского влияния в Константинополе, австро-турецкий конфликт из-за Черногории, знаменитая миссия графа Х.Ф. Лейнингена, Файджес практически не затронул.
По ходу чтения «Крестового похода» меня не покидало ощущение, что британского профессора в большей степени занимает не политический и военно-стратегический, а культурно-бытовой и антропологический аспект Крымской войны. Поэтому вполне возможно, что, взявшись за написание монографии по серьёзной научной теме, которая требует от исследователя высокой квалификации, добросовестности и профессиональной эрудиции, он изначально принялся не за своё дело.
Сайт: http://www.iarex.ru/articles/46565.html